Igrosoft – известный провайдер игрового софта в России

Игрософт является топовым российским разработчиком игр и предлагает вниманию пользователей только качественный софт. Компания успешно функционирует с 1999 года и продолжает активно развиваться, презентуя новинки игр и разрабатывая программное обеспечение для игровых залов и виртуальных клубов.
Топовые игровые автоматы от компании Игрософт

За время своего существования производитель слотов Igrosoft презентовал несколько десятков игровых автоматов. Каждый из них успел стать настоящим хитом благодаря продуманной сюжетной линии, расширенному функционалу и оригинальному графическому оформлению с использованием ярких элементов. Самыми популярными играми Игрософт в настоящий момент считаются:
- Crazy Monkey;
- Garage;
- Fruit Cocktail;
- The Heat;
- Sweet Life;
- Resident.
Игровые автоматы Игрософт отличаются между собой правилами, количеством линий и барабанов, сюжетной линией и условиями проведения бонусных игр. Вместе с этим их объединяют высокие коэффициенты выплат после успешных спинов, поэтому рассчитывать на крупные выигрыши могут все, кто предпочтет играть на реальные деньги.
Проверенное ПО для игровых залов и казино онлайн
Компания Igrosoft помимо выпуска игровых автоматов также занимается разработкой программного обеспечения, которое широко используется в современных игровых залах и онлайн-казино. ПО функционирует с использованием технологии Flash. В связи с этим могут возникать некоторые сложности при запуске игровых автоматов с портативных гаджетов (в последнее время современные провайдеры все чаще используют HTML5-технологию).
Слоты Игрософт могут похвастаться достаточно разнообразным геймплеем. Благодаря использованию современных технологий и различных математических моделей удается создавать игровые автоматы с различными структурами барабанов и разными призовыми линиями.
Преимущества разработок ведущего производителя Igrosoft
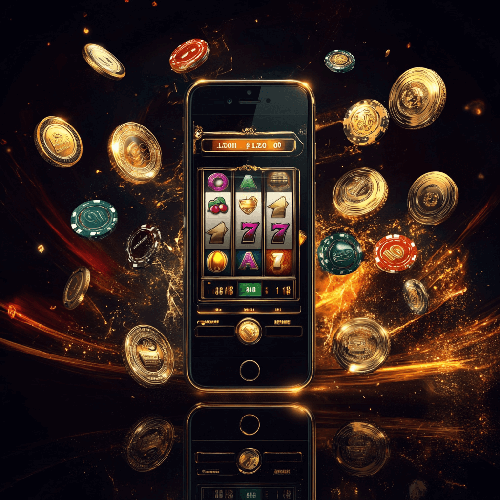
Не смотря на то, что в коллекции Игрософт – всего пару десятков онлайн-игр, они выгодно выделяются на фоне азартных развлечений других производителей. К их главным плюсам в первую очередь относятся:
- оригинальное графическое оформление высокого качества;
- частое образование призовых сочетаний с последующей выплатой крупных выигрышей за счет высоких показателей RTP;
- максимальная простота правил;
- наличие двух бонусных игр в большинстве слотов, специальных символов, серий фриспинов и раунда на удвоение выплат;
- улучшение технических параметров и перевыпуск уже существующих версий игровых автоматов.
Чтобы регулярно получать выигрыши при помощи слотов Igrosoft, пользователям достаточно грамотно распределить свой банкролл или начинать с небольших денежных ставок, постепенно увеличивая их в размере.
Более 20 лет опыта в создании игровых продуктов
Игрософт – топовая компания, которая на протяжении более 20 лет занимается выпуском онлайн-игр и разработкой программного обеспечения. За это время бренд постоянно улучшался и совершенствовался. Ярким тому подтверждением является получение сертификатов от независимой организации iTechLabs для всех игровых автоматов в 2020 году.